Глазастик. Дома он спрятал кукол к себе в сундучок.
Не прошло и двух недель, как мы нашли целый пакетик жевательной резинки и наслаждались ею вовсю: Джим как-то совсем забыл, что вокруг Рэдли всё ядовитое.
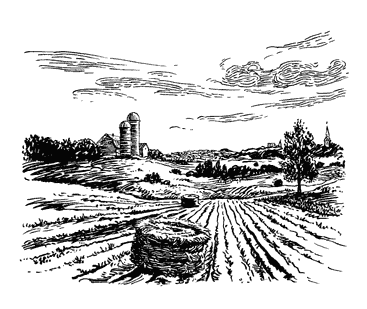
Ещё через неделю в дупле оказалась потускневшая медаль. Джим отнёс её Аттикусу, и Аттикус сказал — это медаль за грамотность; ещё до нашего рожденья в школах округа Мейкомб бывали состязания — кто лучше всех пишет, и победителю давали медаль. Аттикус сказал — наверно, кто-то её потерял, мы не спрашивали соседей? Я хотела объяснить, где мы её нашли, но Джим меня лягнул. Потом спросил — а не помнит ли Аттикус, кто получал такие медали? Аттикус не помнил.
Но лучше всех была находка через четыре дня: карманные часы на цепочке и с алюминиевым ножичком; они не шли.
— Джим, по-твоему, это такое белое золото?
— Не знаю. Покажем Аттикусу.
Аттикус сказал — если бы часы были новые, они вместе с ножиком и цепочкой стоили бы, наверно, долларов десять.
— Ты поменялся с кем-нибудь в школе? — спросил он.
— Нет, нет, сэр! — Джим вытащил из кармана дедушкины часы. Аттикус давал их ему поносить раз в неделю, только осторожно, и в эти дни Джим ходил как стеклянный. — Аттикус, если ты не против, я лучше возьму эти. Может, я их починю.
Когда Джим привык к дедушкиным часам, ему наскучило весь день над ними дрожать и уже незачем было каждую минуту смотреть, который час.
Он очень ловко разобрал и опять собрал часы, только одна пружинка и два крохотных колёсика не влезли обратно, но часы всё равно не шли.
— Уф! — вздохнул он. — Ничего не выходит. Слушай, Глазастик…
— А?
— Может, надо написать письмо тому, кто нам всё это оставляет?
— Вот это хорошо, Джим, мы скажем спасибо… чего ты?
Джим заткнул уши и замотал головой.
— Не понимаю, ничего не понимаю… Сам не знаю, Глазастик… — Джим покосился в сторону гостиной. — Может, сказать Аттикусу… Нет, не стоит.
— Давай я скажу.
— Нет, не надо. Послушай, Глазастик…
— Ну чего?
Весь вечер у него язык чесался что-то мне сказать: то вдруг повернётся ко мне с блестящими глазами, то опять передумает. Передумал и на этот раз:
— Да нет, ничего.
— Давай писать письмо. — Я сунула ему под нос бумагу и карандаш.
— Ладно. «Дорогой мистер…»
— А почём ты знаешь, что это мужчина? Спорим, это мисс Моди… Я давно знаю, что это она.
— Э-э, мисс Моди не жуёт жвачку! — Джим ухмыльнулся. — Ох, она иногда здорово разговаривает. Один раз я хотел угостить её жвачкой, а она говорит: нет, спасибо, жвачка приклеивается к нёбу, и тогда становишься бессло-вес-ной! Красиво звучит, правда?
— Ага, она иногда очень красиво говорит. Хотя верно, откуда ей было взять часы и цепочку.
«Дорогой сэр, — стал сочинять Джим. — Мы вам очень признательны за ча… за всё, что вы нам положили в дупло. Искренне преданный вам Джереми Аттикус Финч».
— Если ты так подпишешься, он не поймёт, что это ты.
Джим стёр своё имя и подписал просто: Джим Финч. Ниже подписалась я: Джин Луиза Финч (Глазастик). Джим вложил письмо в конверт.
На другое утро, когда мы шли в школу, он побежал вперёд и остановился у нашего дерева. Он стоял ко мне лицом, глядел на дупло, и я увидела — он весь побелел.
— Глазастик!!
Я подбежала.
Кто-то замазал наше дупло цементом.
— Не плачь, Глазастик, ну, не надо… ну, не плачь, не надо, слышишь… — повторял он мне всю дорогу до школы.
Когда мы пришли домой завтракать, Джим в два счёта всё проглотил, выбежал на веранду и остановился на верхней ступеньке. Я вышла за ним.
— Ещё не проходил… — сказал он.
На другой день Джим опять стал сторожить — и не напрасно.
— Здравствуйте, мистер Натан, — сказал он.
— Здравствуйте, Джим и Джин Луиза, — на ходу ответил мистер Рэдли.
— Мистер Рэдли… — сказал Джим.
Мистер Рэдли обернулся.
— Мистер Рэдли… э-э… это вы замазали цементом дырку в том дереве?
— Да. Я её запломбировал.
— А зачем, сэр?
— Дерево умирает. Когда деревья больны, их лечат цементом. Пора тебе это знать, Джим.
Весь день Джим больше про это не говорил. Когда мы проходили мимо нашего дерева, он задумчиво похлопал ладонью по цементу и потом тоже всё о чём-то думал. Видно, настроение у него становилось час от часу хуже, и я держалась подальше.
Вечером мы, как всегда, пошли встречать Аттикуса с работы. Уже у нашего крыльца Джим оказал:
— Аттикус, посмотри, пожалуйста, вон на то дерево.
— Которое?
— На участке Рэдли, вон то, поближе к школе.
— Вижу, а что?
— Оно умирает?
— Нет, почему же? Смотри, листья все зелёные, густые, нигде не желтеют…
— И это дерево не больное?
— Оно такое же здоровое, как ты, Джим. А в чём дело?
— Мистер Рэдли сказал, оно умирает.
— Ну, может быть. Уж наверно мистер Рэдли знает свои деревья лучше, чем мы с тобой.
Аттикус ушёл в дом, а мы остались на веранде. Джим прислонился к столбу и стал тереться о него плечом.
— Джим, у тебя спина чешется? — спросила я как можно вежливее. Он не ответил. Я сказала: — Пойдём домой?
— После приду.
Он стоял на веранде, пока совсем не стемнело, и я его ждала. Когда мы вошли в дом, я увидела — он недавно плакал, на лице, где положено, были грязные разводы, но почему-то я ничего не слыхала.
8
По причинам, непостижимым для самых дальновидных пророков округа Мейкомб, в тот год после осени настала зима. Две недели стояли такие холода, каких, сказал Аттикус, не бывало с 1885 года. Мистер Эйвери сказал — на Розеттском камне записано: когда дети не слушаются родителей, курят и дерутся, тогда

