вмонтированные в нижние балки нервюр центроплана. При этом для бомб 50 кг и 100 кг были оставлены складывающиеся ухваты, а для бомб 250 кг и спецприборов сделаны легкосъемные ухваты.
В ходе эксплуатации универсальных бомбоотсеков имели место случаи, особенно «при полетах с полевых неблагоустроенных аэродромов», самопроизвольного раскрытия створок бомболюков и последующим выпадением и взрывом бомб под фюзеляжем. В ряде случаев это приводило к тяжелым последствиям.
Этот дефект был связан с неправильной регулировкой длины штока тяги замка, при которой крюк не полностью входит в свое гнездо и между концами трубы и крюком образуется зазор. После усиления тяги замка запирания створок бомболюков, дефект больше не проявлялся.
«Негладкая внутренняя поверхность стенок и створок бомболюков благодаря выступанию заклепок, листов жесткости и др. деталей люка» иногда приводила к зависанию бомб после сброса. При посадке зависшая бомба срывалась и от соударения с землей взрывалась под фюзеляжем.
Кроме того, «система самозакрывания створок люков силою пружин не обеспечивает надежную и безопасную работу^. После сброса бомб люки оставались открытыми, что ухудшало аэродинамику и затрудняло пилотирование самолетом.
Прочность замков МДЗ-40 оказалась недостаточной при подвеске бомб калибра более 100 кг. Уже после 7-8 подвесок ФАБ-250 отмечались случаи поломок переднего упора замка.
При подвеске бомб ФАБ-50 на замки МДЗ-40 установка ухватов производилось путем ввинчивания их в гнезда, что занимало много времени при подготовке самолета к боевому вылету.
После 50-70 вылетов с бомбами или после 5-10 посадок с бомбами происходила «осадка болтов защелок замков Дер-21». В результате нарушалась «соосность между спусковым штоком замка и предохранительно-спусковым штырем». Как следствие, открыть замок было невозможно. Техническому составу приходилось предпринимать неординарные меры.
Конструкция сигнализации подвешенных бомб на замок Дер-21 не отвечала своему назначению. При загрузке бомбоотсека мелкими бомбами и при подвеске на Дер-21 нестандартных бомб калибра 50 кг сигнализация не работала. При загрузке стандартных ФАБ-50 вследствие раскачивания бомбы контактный стержень заклинивался и сигнализация также не работала.
Вследствие недостаточной прочности кронштейна крепления сигнализации его часто ломали и гнули во время загрузки бомб в бомбоотсеки.
Как указывалось в докладах инженеров полков, из-за ненадежной работы системы сигнализации, «летный состав ей не пользуется и в большинстве случаев ей не доверяет».
Монтаж стрелково-пушечного вооружения на Ил-2 оценивался техническим составом вполне положительно: «обеспечивается свободный доступ ко всем агрегатам». Это позволяло «легко производить монтаж и демонтаж вооружения, предполетный и послеполетный осмотр, устранять задержки и производить мелкий ремонт, не снимая вооружения».




Вместе с тем отмечались и серьезные конструктивные недостатки. В частности, в ствольную коробку пушки ВЯ через окна для выхода стреляных гильз (гильзоотводы) при рулении, взлете и посадке самолета попадало много пыли и грязи, что отрицательно сказывалось на работе автоматики пушки и вызывало задержки при стрельбе.
Переднее крепление пушки ВЯ-23 оказалось недостаточно прочным. Вследствие этого после производства 500-1000 выстрелов наблюдался «значительный люфт в пробках для передних цапф пушки и шкворня, чем увеличивается рассеивание». Несинхронность спуска с боевого взвода пушек ВЯ также «снижало меткость огня».
В ряде случаев после производства 400-500 выстрелов «у пушек ВЯ происходит осадка движков переднего шептало, в результате чего повышается трение подвижных частей, что приводит к недоходу частей или неотдаче».
Отмечалось ненадежное крепление рукава питания к приемнику пушки - «морские болты от вибрации выпадают из своих гнезд, чем и вызываются задержки в стрельбе».
В первое время эксплуатации пушек на фронте массовыми были поломки затворов. Вверху боевой грани затвора образовывались трещины после 250-300 выстрелов «на газовом отверстии 4,5 мм», после 750-900 выстрелов «на газовом отверстии 4,0 мм» и после 1200-1300 выстрелов «на газовом отверстии 3,5 мм».
Например, в 4-м шап с 20 сентября по 20 ноября 1941 г. поломалось 27 затворов пушек ВЯ, а в 431м шап в период с 9 по 20 ноября -6 затворов. Между тем необходимого запаса затворов на складах Южного фронта, в составе которого воевали эти полки, естественно, не было.
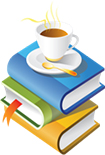

В 288-м шоп в период с 18 октября по 1 ноября 1941 г. поломались 4 затвора на пушках, имевших настрел от 500 до 700 выстрелов каждая при газовом отверстии 4,5 мм.
До тех пор пока производственники не устранили этот дефект, инженерный и технический состав частей и соединений был вынужден искать выход из создавшегося положения. В частности, была предложена комбинированная схема настройки параметров пушек, которая заключалась в последовательном уменьшении размера газового отверстия при увеличении настрела пушки: 4,5 мм - при настреле 150-200 выстрелов, 4 мм - до 500-600 выстрелов, 3,5 мм ~ до 1000-1100 выстрелов, а свыше этого - переходили на газовое отверстие 3 мм. Это мероприятие дало положительные результаты.
Регулярно ломались лапки и фиксаторы затворов, а также выходил из строя ударник по причине преждевременного износа. Когда же «срочно нужно было заменить поломанные детали, то при осмотре запчастей в количестве 2-х комплектов, полученных с завода № 18, последние оказались измененной конструкцией (не выдержаны размеры), а особенно затворы и клинья запирания и поэтому к пушкам не подходят».
Имели место частые случаи поломки трубки пневмоперезарядки пушки ВЯ в месте соединения к цилиндру пневмоперезарядки. Поломка происходила на участке головки ниппеля вследствие чрезмерной нагрузки.
Конструкция рукава питания пушки ВЯ не обеспечивала возможности разъединения патронной ленты без предварительного снятия самого рукава.
Довольно часто пооисхолил обрыв тросов перезарядки пушки. Оказалось, что на заводах при монтаже пушки на самолет шлицы тросов перезарядки и спуска в местах их соединения с карабином спаивались без

