как любой другой сверился бы с наручными часами. Красота.
Ресторанчик (единственный, куда можно дойти пешком из отеля, в котором нет своего кафетерия) не подает крепкие напитки. Меня это ничуть не удивляет. Ранние (для нью-йоркца вроде меня) обеденные часы и окружающие это место пропеченные солнцем равнины подсказывают мне, что мы уже не в Нью- Йорке. Мне нравится выезжать из города. Я не питаю никаких иллюзий, будто мой мир чем-то лучше здешнего, что не мешает мне поражаться цепкости некоторых пуританских запретов: здесь рано ложатся спать и не одобряют алкоголя, даже за плотным обедом. Полагаю, что на человека, готового пропустить бокал-другой вина во время трапезы, здесь посмотрели бы укоризненно, как мы смотрим на наркоманов: ведь это признак слабости моральных устоев. Здесь считают, что внутри каждого из нас прячется тайное желание сорваться в штопор, погрязнуть в чувственном безудержном удовольствии — а подобные вещи необходимо пресекать в зародыше, по чисто прагматическим причинам. Если вдуматься, первые поселенцы не могли одобрять чьи-то попытки расслабиться и вдоволь повеселиться: фермеры и хозяева ранчо едва выживали в этом неприветливом краю. Никогда не знаешь, что хлынет из бутылки, пока не откупоришь ее. Если жизнь не балует тебя, да и все кругом едва сводят концы с концами, не стоит сходить с прямой, узкой дороги праведника: чревато неприятностями. Стало быть, выпивка, как и наркотики, отправились в «злачные» места — в дешевые ночные клубы, где веселятся прожигатели жизни, и в тихие темные бары, где они заливают свои печали, вспоминая о былом веселье. В любом случае наркоманы и выпивохи создают собственную контркультуру. Остракизм, которому их подвергают остальные, таким образом, создает и поддерживает ту самую «злачную жизнь», которую надеялись уничтожить запретами.
В местной газете разгорелись дебаты о том, следует ли ограничивать учащихся старших классов требованиями комендантского часа. Не совсем ясно, в который именно час подросткам предлагается расходиться по домам, но те из учеников, кто подрабатывает после учебы, явно останутся без работы, если предлагаемые меры будут все же введены. Пострадают так же и те ученики, кто после занятий ходит на спортивные секции и так далее. Многим из них придется пешком идти с работы или из спортзала, ведь они еще слишком молоды, чтобы иметь водительские права или собственную машину. Значит, возрастает риск ареста за нарушение комендантского часа.
Один школьник, слова которого цитирует газета, предупреждает власти: поскольку скейт-площадка и кое-какие другие подобные городские сооружения закрылись, вконец одуревшие от скуки дети обязательно найдут себе новое занятие — вполне возможно, разрушительное. Всю эту «энергию молодости» надо куда- то девать.
Впрочем, кое-кто из учеников выступает в поддержку комендантского часа — как и тренеры местных футбольных команд, за которыми тут, похоже, давно закрепилась слава мудрецов. Лично я подозреваю, что предлагаемый комендантский час может оказаться тайным, не обсуждаемым вслух средством упростить и узаконить облавы на «праздношатающихся» мексиканских подростков, в которых здесь, без всякого сомнения, видят основных нарушителей спокойствия.
Я проезжаю по старой части города. Мотель, некогда стоявший на основном, градообразующем шоссе, демонстрирует высокоморальный девиз: «Иисус никогда не ошибается». Соответственно, мы сами виноваты во всех наших бедах.

Интересно, не этот ли «приграничный» пуританский фундаментализм, в сочетании с вошедшей в поговорку практичностью, делает минималистические здания вроде этого такими привычными, непримечательными и желанными в здешних краях?

Они замечательно спартанские с виду и исключительно функциональны, их строгий аскетизм прекрасно укладывается в афоризм архитектора XIX века Луиса Салливена: «Форму в архитектуре определяет функция». По его словам, «это закон, проницающий все вещи — органические и неорганические, физические и метафизические». Отсюда следует, что закон этот влияет не только на стиль или эстетические принципы, он лежит и в основе морального кодекса. Им руководствуется сам Господь, этот первый из архитекторов. Скромное строение мотеля — и великое множество других вокруг него! — до последней точки следует этой заповеди. Подобные постройки уверенно берут первый приз: рядом с ними все работы модернистов XX века по всему земному шару определенно кажутся порождениями барокко и потому не столь высокоморальны.
На парковке торгового центра продаются арбузы, а в нескольких метрах оттуда вставленные между ячейками ограды разноцветные пластиковые стаканчики изображают национальный флаг США.

Дальше по шоссе располагается заброшенный кинотеатр для автомобилистов и церковь в металлическом ангаре, чья вывеска призывает «БЫТЬ В МЕСТЕ».
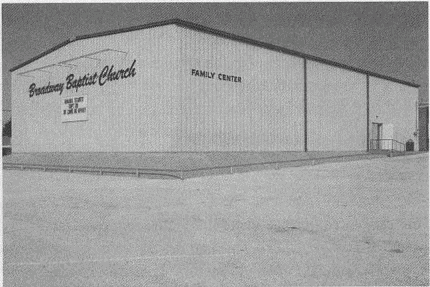
Колумбус, штат Огайо
Я проезжаю по пригородному парку, что приводит меня на задворки громадного комплекса, в который входит шоппинг-центр и модель целой улицы, заполненной ресторанами и мотелями. Сгущаются сумерки, начинают мерцать неоновые лампы на столбах, оранжевое с химическим оттенком зарево освещает парковку. Выверенные, абсолютно гладкие лужайки обретают в этом освещении необычный цвет. Езда по этим индустриальным зонам — что-то нереальное, потустороннее. Мне вспоминается виденный когда-то фильм, в котором живописные искусственные пейзажи и плавные закругления дорог, отороченных белым бордюрным камнем, скрывают жестокие, извращенные преступления, а в вездесущих типовых зданиях проводятся секретные исследования. Никто не заметил бы в такой обстановке ничего необычного. Здесь ничто не кажется подозрительным или неуместным. Самые дикие выходки сходят за норму. За аккуратной рощицей я замечаю проблески федеральной автострады, ведущей в Кливленд и Цинциннати. Шум проносящихся по ней легковушек и фургонов похож на индустриальный саундтрек, на далекий грохот волновой машины, на чей-то разговор шепотом, который доносится из-за плотной листвы.
Этот идеальный пейзаж знаком каждому, он давно стал привычным, но глубинные корни этого явления — социальные и обусловленные нашим восприятием — давно стерлись из памяти. Безупречные зеленые газоны, заполняющие разделители у поворотов. Ровная цепочка подстриженных лиственных деревьев, высаженная, чтобы смягчить острые углы исследовательского центра с зеркальными стенами. Среди ветвей размещены камеры слежения, а неброские таблички предупреждают о присутствии сторожевых собак: единственное, что выдает серьезность и важность всего, что бы ни происходило внутри. Весь этот декор и продуманные стерильные пейзажи взывают к воспоминаниям о реальной природе, они лишь визуальные «описания» некоего определенного места, но их собственная реальность спорна. Вылепленные кем-то лужайки и кусты — аллюзии, которые «указывают» на изначальную пасторальную сцену. Присутствуют все элементы, необходимые для воссоздания «миленького пейзажа», но все они сведены к знакам и символам. Они прекрасно имитируют планету с хорошо развитой культурой, откуда все они родом.
Подозреваю, тот же импульс, который изгнал из меню ресторанов бутылки пива и бокалы вина, который заставляет местных жителей видеть в радикальном примитивизме «спартанской» архитектуры житейскую мудрость, поработал и над окружающими меня пейзажами. Упертый религиозный фундаментализм, питающий немалую часть Соединенных Штатов, содействует появлению мест, которые при поверхностном взгляде на них не выдают какой бы то ни было религиозной подоплеки. Но она там есть — мощная невидимая основа, заложенная в созданные человеком индустриальные парки и диковатые ландшафты, вызывающие приступы ностальгии по пейзажам, никогда не существовавшим в реальности.
Персонаж мыльной оперы вещает с полки бара: «Ты убила его, ты задушила его своими пончиками!» В другой сцене женщина сидит в обществе мужчины и старушки, задаваясь вопросом, а жива ли она сама. Мужчина успокаивает ее: «Нет, ты жива!», а старушка тут же протягивает ей поднос, полный пончиков.

